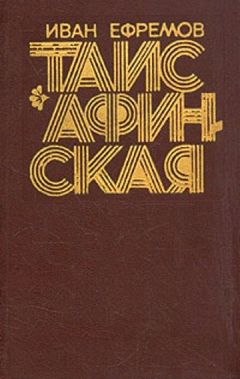Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]
— Стою, и на нем в гроб лягу.
— И пред лицом архиерея повторишь то слово?
— Не пред лицом архиерея токмо, но пред лицом Бога Всемогущего.
Как электрическая искра пробегает этот ответ по собранию. Даже Долгоруков откидывается на креслах и изумленно смотрит в глаза подсудимого.
— Все сказал? — продолжает Ягужинский.
— Не все.
— Сказывай все.
— Говорил мне еще архиерей: желаю-де в Польшу отъехать.
— Для чего?
— Дабы не быть псом патриарша престола.
— Замолчи! Не кощунствуй! — крикнул на него Ягужинский.
— Ты что кричишь, холоп царев! — И подсудимый зазвенел цепями. — Я и на Страшном суде не замолчу.
Все сенаторы встали с мест.
— В застенок его, — проговорил Головкин.
Подсудимого увели в застенок. За ним последовали все сенаторы.
— Утверждаешься на слове? — еще раз спрашивает Ягужинский.
— Утверждаюсь.
— Палачи! — Делайте свое дело.
На подсудимого надевают пыточный хомут, к одной ноге привязывают веревку и тянут на дыбу. От тяжести тела и еще более от того, что один из палачей всеми силами натягивает веревку, привязанную к ноге подсудимого, руки несчастного выскакивают из суставов.
— Бей! — говорит Ягужинский одному палачу.
Удары палача не изменяют решимости фанатика. Он упорно молчит.
Сенаторы ждут, думая, что невыносимые муки заставят несчастного кричать, молить о пощаде, изменить показания...
Ждут десять минут... двадцать... двадцать пять... Можно задохнуться на виске, обезумев от боли... Нет!
Палач от времени до времени повторяет свои удары, от которых вол заревел бы...
Нет! Не ревет...
Еще ждут... Становится скучно и досадно.
— Утверждаешься на последнем показании? — нетерпеливо спрашивает генерал-прокурор.
Молчит.
— Стоишь на слове? (К палачу). Ударь сильнее! Стоишь?
Молчание.
Ждут... Тридцать минут... сорок...
— Ведомости пришли из Астрахани, что государь в море отплывает, — говорит Головкин.
— Не сдобровать Мир-Махмуду, — замечает Брюс.
Опять ждут.
— Пишут мне из вотчины: засухи стоят, урожаи плохи, чай, выдут, — заводит Голицын.
— Арбузы, сказывают, государю полюбились в Царицыне быковские, — поясняет Шафиров.
— Да, в сухой год арбузы хороши бывают, и ягод прорва, — добавляет Ягужинский.
Ждут. Молчит Левин.
— Еще ударь!
Ни звука... Ждут, слушают... Никак говорит? Да, говорит.
— Матушка! Матушка! Погляди на меня с небес, на сына твоего, на Васю, — шепчет несчастный. — Посмотри, матушка! Какой я славы дождался.
— Заговаривается, — замечает Голицын. — Пора бы снять.
— Дуня! Евдокеюшка... ты видишь меня... порадуйся...
— Да, бредит.
— А ты, Оксаночко, где ты?
— Снимите! — приказывает Голицын. — Сорок пять минут висел.
Снимают. Ждут слова, мольбы — напрасно! Подсудимый поднимает руки к небу и говорит восторженно:
— Благодарю Тебя, всемогущий Боже, яко сподобил мя мученической славы! Славлю имя Твое святое ныне и присно!
— Не снимаешь свой оговор с архиерея Стефана? — снова спрашивает Ягужинский.
— Не снимаю! Суще на архиерея право те слова показал... А се ныне добавлю: он же, архиерей, говорил мне, что будут писать токмо три иконы да распятие, а остальные-де станут на воду пускать и жечь. И он же говорил мне: «Едучи до Новгорода, в дороге помолчи, а от Новгорода сказывай, чтоб иконы убирали».
Сенаторы с недоумением, а иные и с тайною радостью посмотрели друг на друга: приходилось допрашивать великого старца, блюстителя патриарша престола, митрополита Стефана Яворского.
Когда Левина увели, граф Головкин обратился к сенаторам:
— Будем допрашивать архиерея, господа сенат?
— Повинны в силу указа царева, — замечает Ягужинский.
— Да будет так! Воля царева — мать закона: она его рождает, — пояснил, не без задней мысли, Долгоруков.
Когда Левина вывели из ворот генерального двора, чтоб снова отвести в тюрьму Тайной канцелярии, народ с боязнью расступился перед ним: лицо его выражало что-то такое всепрощающее, необычное между людьми, что становилось страшно чего-то.
Один Фомушка не испугался. Напротив, он быстро подошел к арестанту и поклонился ему до земли. Затем, сев верхом на клюку, как это делают ребятишки, когда играют в лошадки, стал прыгать впереди Левина, показывая вид, что скачет.
— Пошел прочь, дурак! — закричал на него один солдат, по-видимому, нерусский... — Что ты делаешь?
— Еду к Марье Акимовне и к Иван Захарычу, — отвечал юродивый загадочно.
— Зачем? — спросил купец, знавший уже, кто разумелся у юродивого под именем «Марьи Акимовны» и кто был «Иван Захарыч».
— Чтоб Марья Акимовна сынка своего попросила отворить райские двери.
— Для кого?
— Вон для него.
И юродивый, указав на Левина, поскакал верхом на палочке среди изумленных москвичей.
— Ишь Божий человек — Христа ради юродствует, радуется, — заметила баба, несшая хлеб с базара. — Господь, должно, радость нам пошлет — хлебушка подешевеет.
— Держи, баба, карман! — обрезал ее купец. — Юродивый радуется — к худу, а плачет — к добру.
Левина уже не видно было. Слышалось только издали мерное позвякиванье кандалов.
— Слышите! Слышите! — говорил вновь откуда-то взявшийся Фомушка, прислушиваясь к звяканью железа. — Это Петруша апостол звенит райскими ключами... Отпирает, отпирает... Ай да Петруша!
XXVII
ОЧНАЯ СТАВКА С СТЕФАНОМ ЯВОРСКИМ.
ЛЕВИН НА СПИЦАХ
Идет допрос Стефана Яворского. Митрополита допрашивают не в синоде, а на дому, «ради болезни».
И духовный, и светский верховные суды в полном составе собрались вместе.
Но кто кого судит? Этот ли ветхий, маститый, с кроткими глазами старец в митрополичьем одеянии, сидящий особо, поодаль от других, и задумчиво перебирающий свои четки, к концу которых подвешено маленькое золотое распятие, утвержденное на перламутровой, искусно выточенной мертвой голове? Он ли судит это сонмище вельмож светского и духовного чина, сидящих против него за особым столом? Или эти вельможи, не смеющие прямо взглянуть в кроткие глаза подсудимого и точно слышащие над собою приговор юродивого, что судят всегда виноватые правого, а не правый виноватых, — судят этого кроткого старика?
В числе судей — враг Стефана Яворского, пронырливый и завистливый соотечественник Стефана, воспитанник иезуитов, украинец Феофан Прокопович. Жесткое, хитрое лицо его выражает скрытое торжество под личиной смирения. Рядом с ним другие члены синода: архимандриты чудовский, Новоспасский и симоновский. Это — высший духовный суд.
Отдельно от них сидят члены светского верховного суда «господин сенат»: граф Головкин, лукавые глаза которого, словно мыши, попрятались в норы, князь Григорий Долгоруков, Яков Брюс, Шафиров, князь Димитрий Голицын, граф Матвеев и Ягужинский.
Ягужинский протяжно, внятно и с расстановками читает бесконечные показания, данные Левиным в Тайной канцелярии, в сенате и в застенках под пытками 28 апреля, 8, 11, 15 и 26 июня, и последнее — 5 июля.
Утомительно это чтение и мучительно для Стефана Яворского: имя старика попадается на каждой странице, рядом с этим именем звучат слова «антихрист», «царь», «антихристовы печати», «блудники-монахи»...
При подобных словах то в глазах Феофана Прокоповича блеснет зловещий огонек, то глазки Головкина засветятся словно гнилушка ночью. Но задумчивые глаза подсудимого старика смотрят куда-то далеко-далеко, не то на далекую, милую, в тумане старческой памяти выступающую Украину, на родной Нежин, на старое дерево в леваде с вороньим гнездом, не то — в близкую могилу, у которой уже лежит готовая лопата, чтобы засыпать землей кроткие, отглядевшие свой век глаза, чтобы уж не глядеть им в невозвратное прошлое, на невозвратную Украину.
Ни Прокопович, ни Головкин, ни Ягужинский ничего не могут прочитать в этих глазах, потому что их реальный ум незнаком с тою речью, которою говорят задумчивые глаза подсудимого.
Наконец чтение показаний Левина кончено.
Подсудимый глубоко вздохнул, но не изменил ни своего положения, ни задумчивого выражения глаз.
Помолчав немного, Головкин медленно произнес:
— Что будет угодно ответствовать на сие вашей святыни?
Стефан Яворский перенес на него свои глаза, потом медленно перенося их на недоумевающие лица всего собора, начал говорить тихо, плавно, спокойным, совершенно деловым языком:
— Оный Левин в Нежине у меня был ли и такие слова, которые в расспросе его показаны, говорил ли, того за многопрошедшими годами сказать не упомню. А в Петербурге в прошлом 1721 году он, Левин, ко мне прихаживал не однажды и просил прилежно меня, чтоб ему дать грамоту о пострижении, и я говорил ему, чтоб он просил в Военной коллегии об отставке от службы, и когда-де свободный от службы указ за руками генералов и за печатью ему дадут, тогда-де я и о пострижении его грамоту дам. И потом он сказал мне, что оный указ взял, и просил меня, чтоб я о пострижении его дал письмо в Соловецкий монастырь к архимандриту. И я такое письмо ему дал.